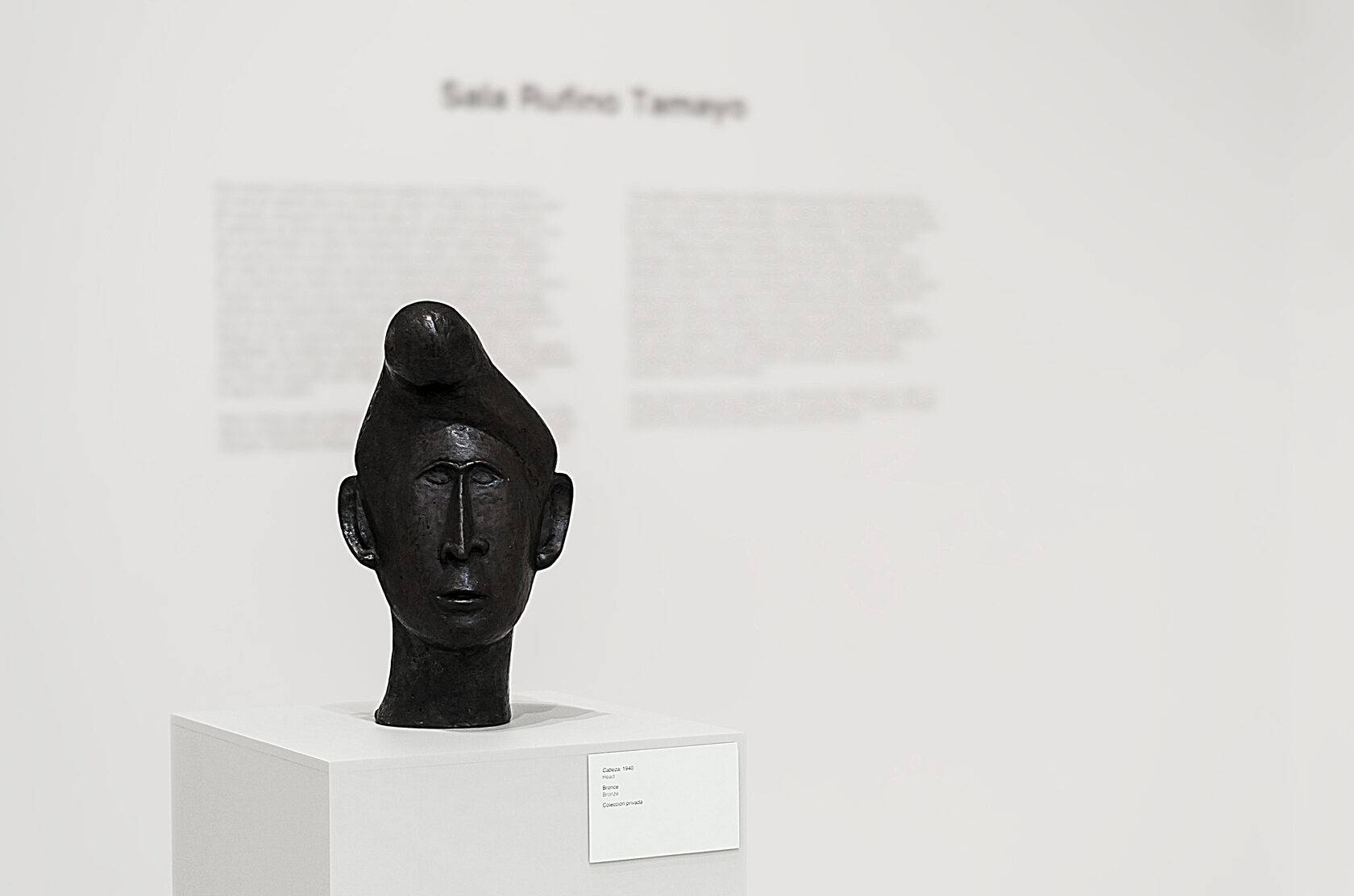С докладом выступит научный сотрудник Центра урбанистики Тюменского государственного университета Федор Корандей. Дискутантом — магистрант факультета антропологии ЕУСПб Гавриил Малышев.
Доклад посвящен анализу проектировочного выбора в архитектурно-строительной сфере, а также механизмам формирования насмотренности — категории, широко используемой профессиональным сообществом для описания проектных решений.
Традиционно городская застройка описывается через оппозицию индустриально произведенной архитектуры и различных форм самостроя — «вернакуляра». Однако наблюдения за практиками индустриального домостроения показывают, что эта оппозиция не является жесткой. Проектировочные решения неизбежно включают элемент «вернакулярного» выбора, основанного не столько на технических регламентах и экономических оценках, сколько на конвенциональных для профессиональной среды образцах (см. «парадигма проектирования, основанная на выборе» А. Рапопорта, 1969). Этот механизм определяет не только относительно простые решения отдельных хозяйствующих субъектов, но и сложные этнографии принятия решений в корпоративных средах девелоперских компаний. «Коллективная» система принятия решений в сфере массового жилищного строительства, в которую включаются не только архитекторы и инженеры, но также продуктологи и маркетологи, как кажется, обойдена вниманием антропологов архитектурной профессии (Д. Кафф, А. Янева, Т. Ярроу и т.д.)
Ключевое внимание в докладе будет уделено понятию «насмотренности» — одной из важнейших эмических категорий, описывающих обстоятельства вернакулярного выбора. Перейдя из языка художественного образования в язык городских стейкхолдеров, понятие «насмотренности» приобрело характерные коннотации, свойственные для этой сферы, связанные прежде всего с продуктовой логикой. Идея насмотренности порождает особые институты, позволяющие девелоперским компаниям, с одной стороны, рекламировать свой продукт, позиционируя себя в качестве лидеров рынка, с другой стороны — приобретать новый и актуальный визуальный, или, точнее, средовой опыт, который в виде конкретных технических решений можно ввести в собственную продуктовую практику. В качестве примера специализированного профессионального формата, формирующего насмотренность, в докладе будет рассмотрена практика урбан-туров.
_Регистрация_
Доклад посвящен анализу проектировочного выбора в архитектурно-строительной сфере, а также механизмам формирования насмотренности — категории, широко используемой профессиональным сообществом для описания проектных решений.
Традиционно городская застройка описывается через оппозицию индустриально произведенной архитектуры и различных форм самостроя — «вернакуляра». Однако наблюдения за практиками индустриального домостроения показывают, что эта оппозиция не является жесткой. Проектировочные решения неизбежно включают элемент «вернакулярного» выбора, основанного не столько на технических регламентах и экономических оценках, сколько на конвенциональных для профессиональной среды образцах (см. «парадигма проектирования, основанная на выборе» А. Рапопорта, 1969). Этот механизм определяет не только относительно простые решения отдельных хозяйствующих субъектов, но и сложные этнографии принятия решений в корпоративных средах девелоперских компаний. «Коллективная» система принятия решений в сфере массового жилищного строительства, в которую включаются не только архитекторы и инженеры, но также продуктологи и маркетологи, как кажется, обойдена вниманием антропологов архитектурной профессии (Д. Кафф, А. Янева, Т. Ярроу и т.д.)
Ключевое внимание в докладе будет уделено понятию «насмотренности» — одной из важнейших эмических категорий, описывающих обстоятельства вернакулярного выбора. Перейдя из языка художественного образования в язык городских стейкхолдеров, понятие «насмотренности» приобрело характерные коннотации, свойственные для этой сферы, связанные прежде всего с продуктовой логикой. Идея насмотренности порождает особые институты, позволяющие девелоперским компаниям, с одной стороны, рекламировать свой продукт, позиционируя себя в качестве лидеров рынка, с другой стороны — приобретать новый и актуальный визуальный, или, точнее, средовой опыт, который в виде конкретных технических решений можно ввести в собственную продуктовую практику. В качестве примера специализированного профессионального формата, формирующего насмотренность, в докладе будет рассмотрена практика урбан-туров.
_Регистрация_
Организаторами конференции выступают факультеты истории и антропологии, а также Школа искусств и культурного наследия. Мы приглашаем исследователей к разговору об официальных и неофициальных институтах советского общества. Тематика вдохновлена книгой Мэри Дуглас «Как мыслят институты», в которой были предложены ответы на многие вопросы через оптику институтов как социальных явлений. Исследовательница рассматривала институты как легитимированные социальные группы и когнитивные конвенции, определяющие практики солидарности и коллективного действия (Дуглас 2020).
В рамках этой концепции институты не отождествляются со структурами власти или экономики, но понимаются как принципиальные основания моральных и этических норм, определяющие и ограничивающие поведение индивидуумов. Следуя этому подходу, мы предлагаем рассматривать многообразие советских миров сквозь призму мыслящих институтов.
С программой конференции можно познакомиться здесь.
_Регистрация_
В рамках этой концепции институты не отождествляются со структурами власти или экономики, но понимаются как принципиальные основания моральных и этических норм, определяющие и ограничивающие поведение индивидуумов. Следуя этому подходу, мы предлагаем рассматривать многообразие советских миров сквозь призму мыслящих институтов.
С программой конференции можно познакомиться здесь.
_Регистрация_
День открытых дверей
Встреча на факультете антропологии, на которой можно будет лучше узнать про программу и вступительные испытания, познакомиться поближе с преподавателями и студентами и задать все интересующие вопросы.
Открытый диалог студентов и выпускников Европейского о том, что помогло им выбрать университет и не разочароваться, с какими ожиданиями они пришли, что здесь нашли для себя и как учеба в ЕУ помогает им проектировать свое будущее в эпоху неопределенности.
27 апреля 12:00 | офлайн + онлайн
12:50–14:00
12:00–12:45
Определенно Европейский